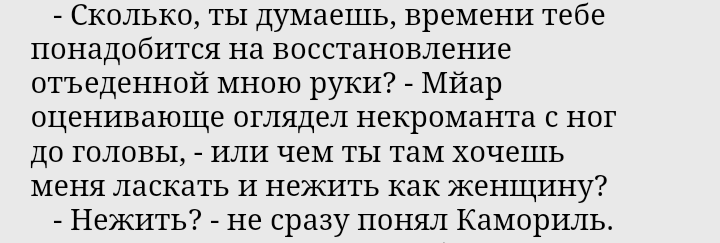Но острый оскал рвет тишину, возносит свою мелодию.
Тонкие песчинки бьются о стеклянные стенки часов, о деревянное дно, завихряясь по воле переворачивающей и встряхивающей часы руки. Вниз-вверх, вверх и вниз. До упора, до основания, до тех пор, пока линии не разорвутся, судьбы не перечеркнутся и лишь одна струна, освободившись, зазвучит в полную силу, без остатка заглушая другие.
- Рания, ты занимаешь полной хуйней.
Голос вместе с его источником внезапно появляется за плечом. От голоса веет чем-то приторно сладким, солью металла и морским бризом одновременно. Рания полуоборачивается и резко поводит плечом.
- Да что ты, нахрен, говоришь?
Аргументы у нее все равно закончились, так что остается огрызаться и унимать дрожь в руках.
- Сколько можно, Рания?, - голос беззлобен, голос тих и бережен, и так заботлив, и так непреклонен, - Ты избороздила это место вдоль и поперек. Изворачивала его тысячу раз - и всё тебе не нравится. Не трепли мертвую плоть, просто уничтожь его или оставь в покое. Всем станет легче. Ты бросаешься на каждого, кто плодит резервации, бросаешься на Марко - а сама? Рания, сколько можно?
Краткий безысходный вздох обрывает монолог. Нет смысла пытаться вытащить ее отсюда, как и нет смысла тащить его прочь из ее мира. Невозможно отменить обмен памятью. Часы в эту сторону не работают.
Он думает положить руку ей на плечо, но вовремя одумывается.
Она молча проклинает судьбы и струны.
А вслух произносит только:
- Ты, нахрен, серьезно так думаешь?
Ее голос переполнен злого сарказма и яда. И дрожь в руках почти унята.